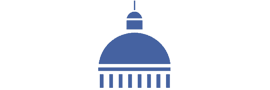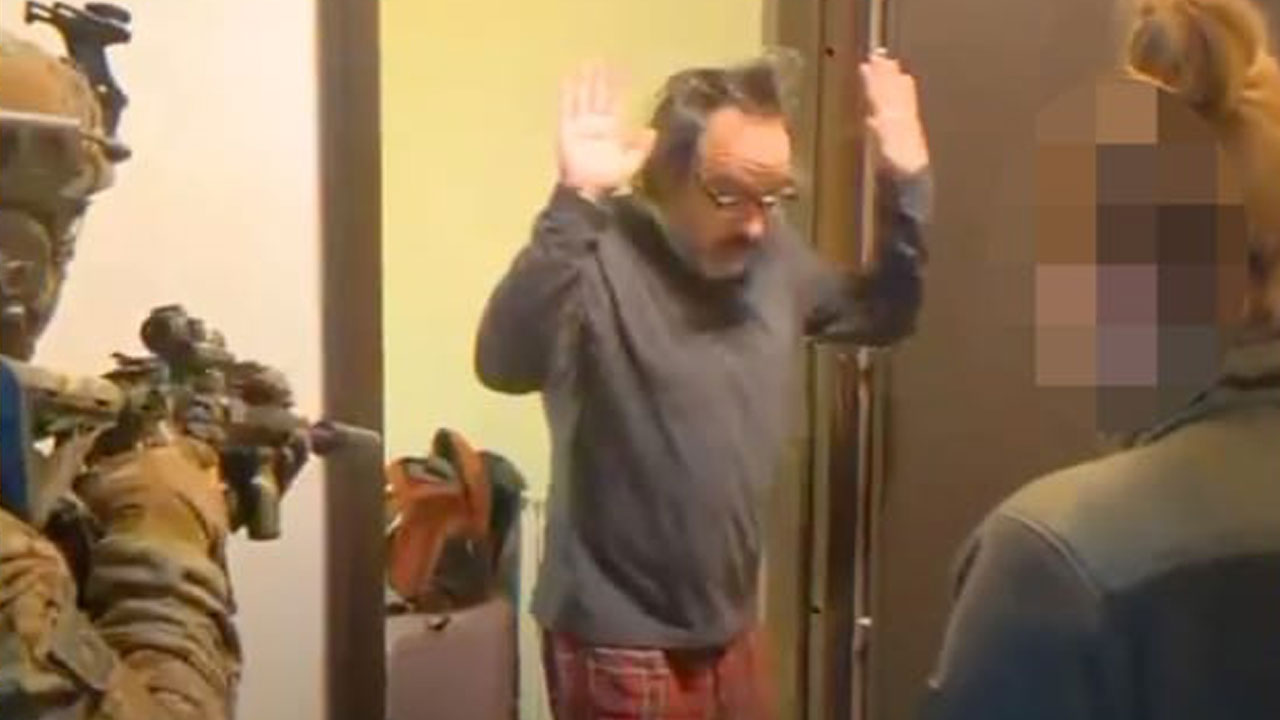«Неверно оценивать прошлое с арифметических позиций: чего больше было у Сталина – заслуг или преступлений», –
Дмитрий Волкогонов, генерал-полковник, доктор исторических наук и доктор философских наук, профессор.
В 2009 году вышла книга лидера российских коммунистов, доктора философских наук, депутата Госдумы РФ с 1993 года Геннадия Зюганова «Сталин и современность» (М.: «Молодая гвардия»). В ней автор пишет:
«Во всяком случае, многие ключевые эпизоды борьбы с гитлеризмом некоторые авторы часто интерпретируют, не упоминая имени Сталина. И это в лучшем случае. Порой же «знатоки» и вовсе берутся утверждать, что победа в этой войне вообще достигнута вопреки действиям Сталина, несмотря на то, что он накануне войны довёл страну и армию до полной разрухи.
Но при этом никто не может внятно объяснить, какие существуют основания, чтобы отказывать Сталину в триумфе победителя, если его армия безоговорочно выиграла величайшую в мировой истории войну. А одного желания, как бы велико оно ни было, затушевать историческую роль Сталина в войне явно недостаточно. Как заметил один современный публицист, если Сталин не имеет отношения к победе, значит, её вовсе не было. Заявления о том, что «в войне победил народ, а не Сталин», – от лукавого, служат лишь для того, чтобы уйти от серьёзного обсуждения темы. Отнимая победу у Сталина, её отнимают и у народа». (С. 199)
И далее:
«Отрицание значения роли Сталина как выдающегося организатора, полководца, дипломата – самый удобный способ разделаться с прошлым. Тем более лишённые каких бы то ни было признаков профессионализма суждения, особенно если они часто повторяются, продолжают играть заметную роль в формировании общественного мнения. Современные конструкции лжи о войне чаще всего опираются на неокрепшие представления нового поколения, которое воспитывалось уже в «демократической» школе и училось по соответствующим учебникам». (Там же, с. 200)
При этом напомним, что и до Г. Зюганова о Сталине были такие или подобные хвалебные высказывания. Так, ещё только-только окончилась война, а уже 23 июня 1945 года в «Правде» (№ 149) появилось стихотворение Михаила Исаковского «Слово к Товарищу Сталину», где есть такие строфы:
Тот день настал. Исполнились сроки.
Земля опять покой свой обрела.
Спасибо ж Вам за подвиг Ваш высокий,
За Ваши многотрудные дела.
Спасибо Вам, что в годы испытаний
Вы помогли нам отстоять в борьбе.
Мы Вам так верили, товарищ Сталин,
Как может быть не верили себе.
Вы были нам оплотом и пророком,
Что от расплаты не уйти врагам.
Позвольте ж мне пожать Вам крепко руку,
Земным поклоном поклониться Вам.
А в 1949 году, в связи с 70-летием И. Сталина, Вячеслав Молотов, вначале отметив, что «теперь особенно ясно, каким великим счастьем для нашей Родины и для всего дела коммунизма было то, что после Ленина коммунистическую партию СССР возглавил товарищ Сталин», далее о роли Сталина в Великой Отечественной войне сказал:
«Чтобы организовать дело победы, товарищ Сталин взял непосредственно в свои руки как политическое и экономическое руководство страной, так и само военное руководство, возглавив вооружённые силы страны, что воодушевило армию и весь народ на самоотверженную, героическую борьбу. Это обеспечило быструю перестройку экономики страны в соответствии с военными нуждами. Созданная во время войны гигантская Советская Армия под непосредственным руководством товарища Сталина была построена на основе принципов сталинской военной науки и превратилась в лучшую современную армию. Всё это сделало возможным создание коренного перелома в ходе войны и обеспечило победоносное осуществление сталинских стратегических планов разгрома врага». (В. Молотов. Сталин и сталинское руководство. М.: Госполитиздат, 1949, с. 12–13)
Так что давайте, как советует Г. Зюганов, заглянем в историю Великой Отечественной войны и посмотрим, при этом, тоже по его совету, опираясь не на желания, а на конкретные факты: был ли И. Сталин безупречен, каким его порой показывают, – как полководец, дипломат и организатор победы в Великой Отечественной войне?
Итак, из истории известно, что в «Докладе на закрытом заседании ХХ съезда КПСС „О культе личности и его последствиях“» (февраль 1956 г.) Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв отметил:
«Сосредоточение власти в руках одного человека – Сталина – привело к серьёзным последствиям во время Отечественной войны».
И далее пояснил:
«До войны вся наша печать и вся наша политико-воспитательная работа отличалась своим хвастливым тоном: если враг вступит на священную советскую землю, то на каждый удар врага мы ответим тройным ударом, мы будем бить врага на его территории и выиграем битву без больших потерь». (Н. С. Хрущёв. Доклад на закрытом заседании ХХ съезда КПСС „О культе личности и его последствиях“. М.: Госполитиздат, 1959, с. 31)
Кстати, такой хвастливый тон о могуществе Красной Армии задавал тогдашний нарком обороны СССР Климент Ворошилов. С трибуны XVIII съезда ВКП(б) (март 1939 г.) он заявил:
«Товарищи, Красная Армия представляет собой гигантскую силу. Красноармейцы, командиры и политработники в нашей армии – это монолитный, марксистско-ленинской идеологией спаянный коллектив. Красная Армия, как один человек, каждый миг готова выполнить свой священный долг защитника государства победившего труда, как один человек с радостью готова отдать жизнь за великое дело Ленина–Сталина». (А не преувеличение ли это?! У человека жизнь одна, и пожертвовать ею он готов только в экстренных случаях, а не с радостью. – С.Ш.)
И далее, под бурные аплодисменты делегатов съезда, К. Ворошилов продолжил:
«Наша армия стоит зорким часовым на рубежах, отделяющих социалистический мир от мира угнетения, насилия и капиталистического варварства. Она всегда, в любой момент, готова ринуться в бой против всякого врага, который посмеет коснуться священной земли советского государства.
Порукой того, что враг будет накоротке смят и уничтожен, служит политическое и моральное единство нашей Красной Армии со всем советским народом.
Порукой этому служит марксистско-ленинская идеология, идеология партии Ленина–Сталина, которой живёт армия советского государства. Во имя этой идеологии бойцы, командиры и политработники готовы всегда отдать свою жизнь.
Порукой этому служит то, что наша Рабоче-Крестьянская Красная Армия является первоклассной, лучше, чем какая-либо другая армия, технически вооружённой и прекрасно обученной.
Порукой этому служат также многочисленные Герои Советского Союза, которые в рядах армии беззаветным служением народу заслужили это высокое звание.
Товарищи! Наша армия несокрушима!» (XVIII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). 10–21 марта 1939 г. Стен. Отчёт. М.: Госполитиздат, 1939, с. 204)
Кстати, в том же 1939 году начали звучать пафосные песни, например, композитора Зиновия Компанейца на слова Льва Ошанина «В бой за Родину», где есть такие строфы:
Пролетают кони, да, шляхом каменистым.
В стремени привстал передовой, –
И по эскадронно бойцы-кавалеристы,
Подтянув поводья, вылетают в бой.
Припев:
В бой за Родину!
В бой за Сталина!
Боевая честь нам дорога!
Кони сытые, бьют копытами,
Встретим мы по-сталински врага!
Ордена не даром, да, нам страна вручила,
Помнит это каждый наш боец.
Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов!
Мы готовы к бою, Сталин – наш отец.
А также «Марш советских танкистов» (музыка братьев Покрасс, слова Бориса Ласкина):
Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужеством полны:
В строю стоят советские танкисты –
Своей великой Родины сыны.
Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин,
И первый Маршал в бой нас поведёт!
Однако на ХХ съезде КПСС Н. Хрущёв сказал:
«Но эти декларативные заявления не основывались на конкретных фактах, которые действительно гарантировали бы неприкосновенность наших границ». (Н. С. Хрущёв. Доклад на закрытом заседании ХХ съезда КПСС „О культе личности и его последствиях“, с. 31)
И эти слова Хрущёва подтверждаются, в отличие от голословного и безмерного восхваления Сталина, фактами. Первым из них стало то, что во время репрессий во второй половине 1930-х годов пострадала и армия.
Правда, в Воспоминаниях и размышлениях Маршала Советского Союза Георгия Жукова говорится:
«Противоестественными, совершенно не отвечающими ни существу строя, ни конкретной обстановке в стране, сложившейся к 1937 году, явились аресты, имевшие место в армии в тот (1937-й – С.Ш.) год. Были арестованы видные военные, что естественно, не могло не сказаться в какой-то степени на развитии наших вооружённых сил». (Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления. М.: Изд. Агентства печати Новости, 1969, с. 147)
Однако по мнению писателя и публициста Петра Межирицкого, это объяснение Жукова о массовых арестах в 1937 году военных не отвечает «ни характеру Маршала, ни его лексике», а является фразой «знавшего конъюнктуру и писавшего за него (за Жукова – С.Ш.) всю эту беллетристику журналиста…».
При этом П. Межирицкий высказывает своё мнение:
«Да нет же, отнюдь не противоестественные, вполне отвечающие существу строя – диктатуре пролетариата (что за нелепый термин! как мы, современники, могли сносить столько лет? И называть правление сытых партийных бонз диктатурой пролетариата?) – и конкретной обстановке в стране, режиму личной диктатуры Сталина». (См. Калифорния, 21 сентября 2006)
«Однако вопрос о командных кадрах вооружённых сил в 1940–1941 годах, – согласно истинному мнению Жукова, – продолжал оставаться острым. Массовые выдвижения на высшие должности молодых, необстрелянных командиров снижало на какое-то время боеспособность армии. Накануне войны при проведении важных и больших организационных мероприятий ощущался недостаток квалифицированного командного состава – специалистов-танкистов, артиллеристов и летно-технического состава…». (Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления, с. 231)
Вот исправленный вариант текста с исправлением грамматических ошибок, опечаток и единообразием оформления:
При этом известно, что среди репрессированных военных в 1930-е годы были не только видные командиры военных округов, армий, корпусов и дивизий, но и крупные военные теоретики, как, например, Маршал Михаил Тухачевский, о котором в приказе Реввоенсовета Республики от 29 мая 1920 года, по случаю его причисления к Генеральному штабу, отмечалось:
«…М. Н. Тухачевский вступил в Красную Армию и, обладая природными военными способностями, продолжал непрерывно расширять свои теоретические познания в военном деле. Приобретая с каждым днём новые теоретические познания в военном деле, М. Н. Тухачевский искусно проводил задуманные операции и отлично руководил войсками как в составе армии, так и командуя армиями фронтов Республики, и дал Советской республике блестящие победы над её врагами на Восточном и Кавказских фронтах». (См. М. Н. Тухачевский. Избранные произведения, том первый. М.: Воениздат Минобороны СССР, 1964, с. 10)
Маршал Г. Жуков подчеркивает, что М. Н. Тухачевскому принадлежит много прозорливых мыслей о характере будущей войны. По мнению Г. Жукова, «глубоко разработал новые положения теории, тактики, стратегии, оперативного искусства, показал неразрывную связь принципов и практики военного строительства с общественным строем и производственной базой в стране». (Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления, с. 100)
Поэтому более чем странно, что, оправдывая репрессии 1937 года, в одном из интервью, данном писателю Феликсу Чуеву, Вячеслав Молотов сказал:
— А такой, как Тухачевский… если бы заварилась какая-нибудь каша, неизвестно, на чьей стороне был бы. Он был довольно опасный человек. Я не уверен, что в трудный момент он целиком остался бы на нашей стороне, потому что он был правым. Правая опасность была главной в то время». (Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с. 46)
Под пресс сталинских репрессий 7 июня 1940 года попал и начальник кафедры оперативного искусства Академии Генерального штаба Красной Армии, полковник Георгий Иссерсон, являющийся одним из разработчиков теории «глубокой операции» — одновременного удара авиации, танков, подвижных моторизованных соединений и воздушных десантов в глубину обороны противника, опубликовавший по данной теме в 1940 году книгу «Новые формы борьбы (опыт исследования современных войн)».
При этом, как указывает автор статьи «А могло бы быть всё иначе» Александр Богуславский, «эта теория была принята на вооружение в Германии, а в Советском Союзе её назвали теорией „глубокого предательства“. Иссерсона репрессировали, а книгу изъяли».
В названной книге Г. Иссерсон «учитывал тактику германского командования при захвате европейских стран, учитывал и „фактор внезапности“, которому немцы придавали огромную роль»; в этой связи он утверждал:
«Фашистская Германия начнёт войну внезапными ударами крупных сил авиации и глубоким вторжением танковых клиньев на узких участках с целью последующего окружения наших крупных группировок. Никакого периода мобилизации и планомерного наступления немецких войск, как это было в прошлом, не будет… Войска на границе необходимо держать в постоянной быстрой готовности». («Кстати» № 488, 1–7 июля 2004)
И Г. Иссерсон был прав… Пройдут годы, Иссерсон выйдет в 1955 году на свободу, и, поздравляя его в 1968 году с 70-летием, один из слушателей первого набора (1936 г.) Академии Генерального штаба, генерал-полковник Леонид Сандалов, кстати, книгу которого «Пережитое» я читал, напишет:
«Если бы Вас послушались в 1940–1941 годах! Как бывший Ваш воспитанник смело говорю: ужаса войны не было бы. Я старался выполнить Ваши заветы — и сумел вывести свою 4-ю армию из окружения…». (Там же)
Кстати, будучи слушателем того же первого набора Академии Генерального штаба, Маршал Советского Союза Александр Василевский называет в числе своих преподавателей ещё и тогдашнего начальника Генерального штаба, Маршала Советского Союза (с 1935 г.) Александра Егорова, которому И. Сталин передавал:
«Выдающемуся полководцу гражданской войны, одному из организаторов блестящих побед Красной Армии на Южном и Юго-Западном фронтах, первому начальнику Генштаба РККА — в день его пятидесятилетия большевистский привет», а также командующих Киевским и Белорусским военными округами, командармов 1-го ранга Иону Якира и Иеронима Уборевича. (См. А. М. Василевский. Дело всей жизни. Мн.: «Беларусь», 1984, с. 76–77)
Все они были расстреляны. И когда в доказательство оправдания репрессий 1930-х годов над военными Г. Зюганов приводит высказывание В. Молотова, что всех их насаждал Троцкий и, дескать, «хорошо, что мы успели до войны обезвредить этих заговорщиков», то следует напомнить:
М. Тухачевский был назначен первым заместителем наркома обороны в апреле 1936 года, А. Егоров — начальником Генштаба в сентябре 1935 года, И. Уборевич — командующим Белорусского военного округа в июне 1931 года, а И. Якир — командующим Киевского военного округа в мае 1935 года, то есть всё это происходило тогда, когда Генеральным секретарём ЦК ВКП(б) был И. Сталин (с 1922 года), а В. Молотов — с 1930 года Председателем Совнаркома.
Так что, если эти военачальники были «заговорщиками» против Советской власти, вся ответственность за близорукость лежит на И. Сталине и В. Молотове, а никакой Троцкий к тому времени уже давно отсутствовал в СССР.
Приводить же в качестве оправдания репрессий высказывание В. Молотова, выступавшего на Пленуме (февраль–март 1937 г.) ЦК ВКП(б) с докладом «Уроки вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов», вряд ли корректно, тем более что именно на том Пленуме из уст И. Сталина прозвучали следующие слова:
«Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперёд классовая борьба у нас должна будто бы всё более и более затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы всё более и более ручным… Наоборот, чем больше будем продвигаться вперёд, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы, как последние средства обречённых». (И. В. Сталин. Сочинения, том 1 (XIV). Stanford, California, 1967, с. 213–214)
На том же Пленуме, как повествуют русский писатель и общественный деятель, почётный член Академии военных наук Святослав Рыбас и его дочь, писательница Екатерина Рыбас, по предложению И. Сталина были исключены из ЦК и из партии Бухарин и Рыков; когда они вышли из зала, их арестовали. (См. Святослав Рыбас, Екатерина Рыбас. Сталин: судьба и стратегия. М.: «Молодая гвардия», 2007, с. 120)
После этого, весной (6 мая) 1937 года пошли аресты и «признания военных в заговоре». (Там же, с. 141)
А уже 11 июня 1937 года состоялся суд; «и в тот же день был вынесен приговор: расстрел…
Осуждённых в крытом грузовике в сопровождении усиленной охраны перевезли в Лефортовскую тюрьму, а там провели в подвал.
Командовать расстрелом по предложению Сталина должен был Блюхер, но он решительно отказался.
Поставленный к стенке Якир крикнул: „Да здравствует товарищ Сталин!“. Ворошилов выстрелил ему в затылок.
Следующим поставили Тухачевского, он успел крикнуть: „Вы стреляете не в нас, а в Красную Армию!“ — выстрел Будённого оборвал его жизнь. Уборевича застрелил Ежов. Остальных — сотрудники НКВД.
Тела вывезли на Ходынское поле, сбросили в заранее вырытую яму, засыпали негашёной известью, быстро закапали, плотно утрамбовав землю». (Там же, с. 144)
12 июня 1937 года «Правда» сообщила, что «острый меч социалистического правосудия обрушился на головы подлой военно-шпионской банды». В стране развернулась мощная кампания борьбы с «врагами народа». (Там же, с. 145).
III
А 22 июня 1941 года, как пишет Г. Жуков,
«…главное командование немецких войск сразу ввело в действие 153 немецкие дивизии, из них: 29 дивизий против Прибалтийского, 50 дивизий (из них 15 танковых) против Западного особого, 33 дивизии (из них 9 танковых и моторизованных) против Киевского особого округа, 12 дивизий против Одесского округа и до 5 дивизий находилось в Финляндии, 24 дивизии составляли резерв и продвигались на основных стратегических направлениях.
Эти данные нам стали известны в ходе начального периода войны, главным образом из опроса пленных и из трофейных документов. Накануне войны И. В. Сталин, нарком обороны и Генеральный штаб, по данным разведки, считали, что гитлеровское командование должно будет держать на Западе и в оккупированных странах не менее 50 процентов своих войск и ВВС.
На самом деле к моменту начала войны с Советским Союзом гитлеровское командование оставило там меньше одной трети, да и то второстепенных дивизий, а вскоре и эту цифру сократило.
В составе групп армий „Север“, „Центр“ и „Юг“ противник ввёл в действие 3712 танков и штурмовых орудий. Сухопутные войска поддерживались 4950 боевыми самолётами. Войска вторжения превосходили нашу артиллерию почти в два раза, артиллерийская тяга в основном была моторизована». (Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления, с. 262–263)
В связи с этим чистосердечное признание Маршала Г. Жукова:
«Внезапный переход в наступление всеми имеющимися силами, притом заранее развернутыми на всех стратегических направлениях, не был предусмотрен. Ни нарком, ни я, ни мои предшественники Б. М. Шапошников, К. А. Мерецков, ни руководящий состав Генштаба не рассчитывали, что противник сосредоточит такую массу бронетанковых и моторизованных войск и бросит их в первый же день компактными группировками на всех стратегических направлениях с целью нанесения сокрушительных рассекающих ударов». (Там же, с. 263)
«Следует указать ещё на одну ошибку, — продолжает Жуков, — допущенную Главным Командованием и Генштабом… Речь идет о контрнаступлении согласно директиве № 3 от 22.6.41 года.
Ставя задачу на контрнаступление, Ставка Главного Командования (кстати, с одобрения Сталина — С.Ш.) не знала реальной обстановки, сложившейся к исходу 22 июня. Не знало обстановки и командование фронтов. В своём решении Главное Командование исходило не из анализа реальной обстановки и обоснованных расчётов, а из интуиции и стремления к активности без учёта возможностей войск, чего ни в коем случае нельзя делать в ответственные моменты вооружённой борьбы». (Там же, с. 264)
Вот отредактированный и стилистически выверенный вариант вашего текста с исправлением грамматики, опечаток и единообразием оформления:
Начали сказываться ошибки, допущенные и в предвоенное время. Так, был недооценен опыт использования во время войны в Испании механизированных соединений, в связи с чем были ликвидированы мехкорпуса, хотя было известно, что Германия в своих действиях при захвате европейских стран широко использовала мощные танковые соединения. Недооценено было и такое мощное реактивное оружие, как БМ-13 («Катюша»), которое во время начавшейся войны своими залпами в районе Орши обращало в бегство немецкие части.
Более того, признавая недостатки в работе самого аппарата Генерального штаба, Маршал Г. Жуков отмечает:
«Так, при изучении весной 1941 года положения дел выяснилось, что у Генерального штаба, так же как и у наркома обороны и командующих видами и родами войск, не подготовлены на случай войны командные пункты, откуда можно было бы осуществлять управление вооружёнными силами, быстро передавать в войска директивы Ставки, получать и обрабатывать донесения от войск.
В предвоенные годы время для строительства командных пунктов было упущено. Когда же началась война, Главному Командованию, Генеральному штабу, всем штабам родов войск и центральным управлениям пришлось осуществлять руководство из своих кабинетов мирного времени, что серьёзно осложнило их работу.
К началу войны не были решены вопросы об органах Ставки Главного Командования: её структуре, персональном предназначении, размещении, аппарате обеспечения и материально-технических средствах». (Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления, с. 218–219)
К приведённым признаниям Г. Жукова тогдашних стратегических просчётов следует добавить: те, кто, изучая немецкий «опыт подобного рода», делал правильные выводы и предупреждал о надвигающейся опасности, как, скажем, Маршал Тухачевский и полковник Иссерсон, были во время сталинских репрессий расстреляны или сидели в тюрьмах и концлагерях.
Была допущена, причём дорогостоящая для Красной Армии, ошибка и при определении опасного стратегического направления.
«И. В. Сталин, — пишет Маршал Г. Жуков, — был убеждён, что гитлеровцы в войне с Советским Союзом будут стремиться в первую очередь овладеть Украиной, Донецким бассейном, чтобы лишить нашу страну важнейших экономических районов и захватить украинский хлеб, донецкий уголь, а затем и кавказскую нефть. При рассмотрении оперативного плана весной 1941 года И. В. Сталин говорил: „Без этих важнейших жизненных ресурсов фашистская Германия не сможет вести длительную и большую войну“.
И. В. Сталин для нас был величайшим авторитетом, никто тогда и не думал сомневаться в его суждениях и оценках обстановки. Однако указанное предположение И. В. Сталина не учитывало планов противника на молниеносную войну против СССР, хотя, конечно, оно имело свои основания». (Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления, с. 220)
К тому же все помыслы и действия И. Сталина, как свидетельствует Г. Жуков, «были пронизаны одним желанием — избежать войны и уверенностью в том, что ему это удастся», поэтому он не верил донесениям о начале войны советских разведчиков, а тем более сообщению об этом У. Черчилля и перешедших на нашу сторону немецких солдат.
При этом естественно, что в заблуждение его заводила и изданная 15 февраля 1941 года начальником штаба Верховного главнокомандования вооружёнными силами Германии, генерал-фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем, специальная «Директива по дезинформации противника», согласно которой, с целью сокрытия подготовки нападения на СССР, «отделом разведки и контрразведки Главного штаба были разработаны и осуществлены многочисленные акции по распространению ложных слухов и сведений». (Там же, с. 232–233)
«Сегодня нам известно, — пишет сотрудник советских спецслужб Павел Судоплатов, — что тайные консультации Гитлера, Риббентропа и Молотова о возможном соглашении стратегического характера между Германией, Японией и Советским Союзом создали у Сталина и Молотова иллюзорное представление, будто с Гитлером можно договориться. До самого последнего момента они верили, что их авторитет и военная мощь, не раз демонстрировавшаяся немецким экспертам, отсрочат войну по крайней мере на год, пока Гитлер пытается мирно уладить свои споры с Великобританией. Сталина и Молотова раздражали иные точки зрения, шедшие вразрез с их стратегическими планами по предотвращению военного конфликта. Это объясняет грубые пометки Сталина на докладе Меркулова (наркома Госбезопасности СССР — С.Ш.) от 16 июня 1941 года, в котором говорилось о явных признаках надвигающейся войны. Тот факт, что Сталин назначил себя главой правительства в мае 1941 года, ясно показывал: он возглавит переговоры с Гитлером и уверен, что сможет убедить того не начинать войну. Известное заявление ТАСС от 14 июня подтверждало: он готов на переговоры и на этот раз будет вести их сам. Хотя в Германии вовсю шли крупномасштабные приготовления к войне, причём уже давно, Сталин и Молотов считали, что Гитлер не принял окончательного решения напасть на нашу страну и что внутри немецкого военного командования существуют серьёзные разногласия по этому поводу. Любопытен тот факт, что заявление ТАСС вышло в тот самый день, когда Гитлер определил окончательную дату вторжения». (Павел Судоплатов. Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля. М.: ТОО «Гея», 1996, с. 139)
Так что, когда 22 июня 1941 года В. Молотов доложил Сталину, что «Германское правительство объявило нам войну», «И. В. Сталин опустился на стул и глубоко задумался. Наступила длительная, тягостная пауза». (Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления, с. 248).
Вот аккуратно отредактированный и стилистически выверенный вариант вашего текста. Я исправил пунктуацию, привёл оформление цитат к единому стандарту и сделал текст более плавным для чтения:
А выступая 3 июля 1941 года по радио и как бы извиняясь перед советским народом за свои допущенные ошибки при оценке намерений и действий Гитлера и его окружения, И. В. Сталин сказал:
«Товарищи! Граждане! Братья и сёстры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения (что было, конечно, явным преувеличением – С.Ш.), враг продолжает лезть вперёд, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилёв, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей родиной нависла серьёзная опасность». (И. В. Сталин. Сочинения, том 2 (XVI). Stanford, California, 1967, с. 1)
При этом, объясняя причину сложившейся на фронте ситуации, И. Сталин отметил, что война фашистской Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских. «Дело в том, — пояснял он, — что войска Германии, как страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было ещё отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заключённый в 1939 г., не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла встать на путь вероломства». (Там же, с. 2–3)
В написанном в 1943–1944 годах романе «Дни и ночи», посвящённом героической обороне Сталинграда, где Константин Симонов был военным корреспондентом, он, будучи в то время тоже преданным Сталину, стремился показать на примере капитана Сабурова значение и силу воздействия той сталинской речи на солдат и офицеров:
«Кроме обычной твёрдости, — пишет К. Симонов, — была тогда в этом голосе какая-то интонация, по которой Сабуров почувствовал, что сердце говорящего обливается кровью. Это была речь, которую он потом на войне почти неизменно вспоминал в минуты самой смертельной опасности, причём вспоминал даже не по словам, не по фразам, а по голосу, каким она была сказана, по тому, как в длинных паузах между фразами булькала наливаемая в стакан вода. И хотя в то утро он был один на один со своим репродуктором, ему неизменно казалось, что именно тогда, слушая эту речь, он дал клятву сделать на этой войне всё, что в его силах. Он думал, что Сталину было тяжело и в то же время, что он решил победить. И это соответствовало тому, что чувствовал тогда сам Сабуров, потому что и ему тогда было тяжело и он тоже решил победить любой ценой».
Так что, отступив до Волги и оказавшись в Сталинграде, «Сабуров вдруг с неожиданной для себя ясностью в мельчайших подробностях вспомнил всё, что он пережил в ту минуту и не мог забыть никогда потом». (Роман-газета, 10. К. Симонов. Дни и ночи. Гослитиздат, 1946, с. 2)
Правда, пройдут годы… И К. Симонов напишет:
«Вот так смутно — кое-что подробно, кое-что с пробелами — вспоминается мне это время, которое, наверное, если быть честным, нельзя простить не только Сталину, но и никому, в том числе и самому себе. Не то чтобы ты сделал что-то плохое сам, пусть ты ничего плохого не сделал, во всяком случае на первый взгляд, но плохо было уже то, что к этому привык. Для тебя, двадцатидвухлетнего-двадцатитрёхлетнего человека, в тридцать седьмом–тридцать восьмом годах, то, что происходило, и то, что кажется сейчас неимоверным и чудовищным, постепенно как бы входило в некую норму, становилось почти привычным. Ты жил среди всего этого, как глухой, словно не слышал, что вокруг всё время стреляют, убивают, вокруг исчезают люди». (Конст. Симонов. Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине. М.: «Книга», 1990, с. 55)
И далее К. Симонов признаёт: «Теперь у меня другое, чем было тогда, мнение всего хода войны, меры её внезапности и масштабы её неудач и так далее, о чём уже приходилось и ещё придётся спорить много и долго со стремящимися пригладить все эти проблемы некоторыми историками Великой Отечественной войны». (Там же, с. 88)
«Не Сталин, — делал заключение Н. Хрущёв, под бурные и продолжительные аплодисменты делегатов XX съезда КПСС, — но вся страна в целом, советское правительство, наша героическая армия, её талантливые руководители и храбрые солдаты, весь советский народ — вот те, кто обеспечил победу в Великой Отечественной войне». (Н. С. Хрущёв. Доклад на закрытом заседании XX съезда КПСС „О культе личности и его последствиях“, с. 39)
Однако, как вспоминает канцлер ФРГ Вилли Брандт, во время одной из бесед Леонид Брежнев хотел ему «разъяснить, что он не согласен с антисталинскими тезисами Хрущёва. Сталин очень много сделал, говорил он, и, в конце концов, под его руководством страна выиграла войну — ему ещё воздадут должное». (Вилли Брандт. Воспоминания. М.: «Новости», 1991, с. 199)
Правда, по мнению В. Бранта, «в своём прагматизме в военных делах Брежнев и Хрущёв недалеко ушли друг от друга… для них обоих являлась ужасающая идеологическая узость мышления». (Там же, с. 204–205)
Естественно, что после непомерного восхваления М. Исаковским, В. Молотовым, Г. Зюгановым Сталина как выдающегося организатора победы, полководца и дипломата, а также мнения Л. Брежнева о Сталине возникает вопрос: а под чьим руководством Красная Армия, особенно в первый период войны, потеряла миллионы убитыми и попавшими в плен и была вынуждена отступить до Волги, в результате чего страна понесла неисчислимые потери? Ведь 8 августа 1941 года И. В. Сталин официально становится Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР, хотя и до этого без его одобрения, как показано, никакие решения в стране, в том числе по военным вопросам, не принимались.
«Районы СССР, бывшие во временной оккупации, — пишет первый заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР, член ГКО во время войны, доктор экономических наук, академик АН СССР Николай Вознесенский, — занимали накануне Отечественной войны по отношению ко всей территории СССР значительный удельный вес: в численности населения – 45%, в валовой продукции промышленности – 33%, в посевных площадях – 47%, в поголовье скота (в переводе на крупный рогатый скот) – 45%, в протяжённости железнодорожных путей – 55%». (Н. Вознесенский. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М.: Госполитиздат, 1948, с. 157)
Таким образом, «из 2 567 тыс. жилых домов в городах СССР, подвергшихся оккупации, уничтожено и разрушено 1 209 тыс. домов, причём по размерам жилой площади это количество домов составляло свыше 50% всей городской жилой площади указанных городов. Из 12 млн жилых домов сельских районов СССР, подвергшихся оккупации, 3,5 млн жилых домов…
В целом потери имущества, т.е. основных и оборотных фондов СССР, или прямой ущерб, который нанесён государству и населению в результате разрушений и разграблений государственного, кооперативного и личного имущества за период войны на территории СССР, подвергшейся оккупации, оцененный по довоенным государственным ценам, составляет 679 млрд рублей, или 128 млрд американских долларов. По отношению к национальному имуществу СССР, находившемуся до войны на территории, подвергшейся оккупации, потери имущества составляют около двух третей.
…материальный ущерб, т.е. прямые военные расходы и дополнительные расходы, вызванные войной, а также потери народного дохода населения и социалистических предприятий составили за период Отечественной войны 1 890 млрд руб. в государственных довоенных ценах, или 357 млрд американских долларов». (Там же, с. 160–162)
И самое страшное: в прошедшей войне СССР понес самые большие людские потери — из примерно 50 млн человек потерь всеми странами 27 млн приходится на граждан Советского Союза.
Однако, несмотря на такие потери, нельзя отрицать имевшихся у И. Сталина незаурядных природных способностей, проявившихся во время войны в его решениях и действиях как организатора и военного деятеля. Но для этого понадобились трудные месяцы, во время которых наряду с правильными были приняты много неудачных и ошибочных решений, в связи с чем Г. Жуков уточняет:
«Эти способности И. В. Сталина как Главнокомандующего особенно проявились, начиная со Сталинграда». (Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления, с. 297)
Кстати, И. В. Сталину надо отдать должное и за то, что, в отличие от тех, кто непомерно расхваливает его как военного стратега, он в своём «Выступлении на приёме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии» (24 мая 1945 г.) признал:
«У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–42 гг., когда наша армия отступала, покидала родные нам сёла и города Украины, Беларуси, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода». (И. В. Сталин. Сочинения, том 2 (XV), с. 202–203)
«Лично И. В. Сталину, — пишет Г. Жуков, — приписывали ряд принципиальных разработок, в том числе о методах артиллерийского наступления, о завоевании господства в воздухе, о методах окружения противника, о рассечении окружённых группировок врага и уничтожении их по частям и т.д. Хотя все эти важнейшие вопросы военного искусства являются плодами, добытыми на практике, в боях и сражениях с врагом, плодами глубоких размышлений и обобщения опыта большого коллектива руководящих военачальников и самих войск. Заслуга И. В. Сталина здесь состоит в том, что он правильно воспринимал советы наших видных специалистов, дополнял и развивал их и в обобщённом виде — в инструкциях, директивах и наставлениях — незамедлительно давал их войскам для практического руководства». (Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления, с. 297–298).
«Сейчас, в 80-е годы (а вернее сказать: с 80-х годов ХХ в., — С.Ш.), когда проснулся невиданный интерес к подлинным страницам отечественной истории, — читаем у Дм. Волкогонова, — общество оказалось буквально расколотым по вопросу оценки роли Сталина. Но если вдуматься, то не Сталин сейчас находится в фокусе исторического интереса. Просто Сталин символизирует всё то, что уценено историей. В центре интереса — наши судьбы, наша боль, горестное недоумение: как могло появиться и существовать то, что мы называем сегодня сталинизмом. И если бы понадобилось выразить отношение людей к этой личности с помощью эпитафии, то, думаю, их было бы множество. На одном полюсе можно было бы выбить примерно такую: „Ошибки твои известны. Заслуги твои бесспорны“. На диаметрально противоположном: „Преступлениям твоим нет прощения. Тяжек груз твоего «наследия»“». (Дмитрий Волкогонов. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. В двух книгах. Книга I. М.: АПН, 1989, с. 9).
Семён Шарецкий, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Всесоюзной сельско-хозяйственной академии им. В. И. Ленина